Об эквивалентности множеств различной размерности
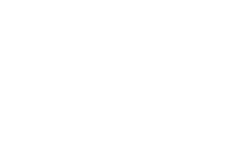
Алгебра учит: отображение плоскости на прямую линию является вырожденным, поэтому биекцией быть не может. Кантор утверждает, что это биекция.
Полтора столетия алгебра утверждает одно, теория множеств — другое. Так где же зарыта собака в этой апории Кантора, утверждающей очевидную нелепость об эквивалентности прямой и плоскости?
Логика Кантора безупречна. Но логика безупречна и в апории Зенона про Ахиллеса и черепаху, так же утверждающей нелепость. Остановимся кратко на этой апории, ключ к пониманию которой дал А. Эйнштейн в своей статье «Геометрия и опыт».
Суть статьи: если Вселенную представить, например, в виде сферы ограниченного диаметра, а метрику внутри сферы задать так, чтобы размеры всех тел, включая средства измерений, при приближении к границе сферы неограниченно и в одинаковой пропорции уменьшались, то для живущих внутри сферы это уменьшение не будет заметно, и Вселенная для них будет бесконечна, хотя и ограничена поверхностью сферы конечного диаметра. То же самое — постоянное и неограниченное уменьшение масштаба измерения (размера отрезка измеряемого пути) — имеет место в апории Ахиллеса и черепахи. Фактически Ахиллеса поместили в сферу Эйнштейна и заставили бежать по радиусу к границе сферы, в то время как наблюдение вели снаружи сферы; иными словами, Ахиллес бежит в неэвклидовом пространстве, к тому же еще с переменной метрикой, а наблюдение за ним ведется из эвклидова пространства. Наблюдатель действительно увидит парадокс, но никакого парадокса не будет, если Ахиллеса и наблюдателя поместить в пространство с одинаковой метрикой. Можно добавить: в этой апории наличие черепахи не является обязательным. Не за черепахой бежит Ахиллес, а сам по себе: сначала 10 метром, после 1 метр и т. д.:
Полтора столетия алгебра утверждает одно, теория множеств — другое. Так где же зарыта собака в этой апории Кантора, утверждающей очевидную нелепость об эквивалентности прямой и плоскости?
Логика Кантора безупречна. Но логика безупречна и в апории Зенона про Ахиллеса и черепаху, так же утверждающей нелепость. Остановимся кратко на этой апории, ключ к пониманию которой дал А. Эйнштейн в своей статье «Геометрия и опыт».
Суть статьи: если Вселенную представить, например, в виде сферы ограниченного диаметра, а метрику внутри сферы задать так, чтобы размеры всех тел, включая средства измерений, при приближении к границе сферы неограниченно и в одинаковой пропорции уменьшались, то для живущих внутри сферы это уменьшение не будет заметно, и Вселенная для них будет бесконечна, хотя и ограничена поверхностью сферы конечного диаметра. То же самое — постоянное и неограниченное уменьшение масштаба измерения (размера отрезка измеряемого пути) — имеет место в апории Ахиллеса и черепахи. Фактически Ахиллеса поместили в сферу Эйнштейна и заставили бежать по радиусу к границе сферы, в то время как наблюдение вели снаружи сферы; иными словами, Ахиллес бежит в неэвклидовом пространстве, к тому же еще с переменной метрикой, а наблюдение за ним ведется из эвклидова пространства. Наблюдатель действительно увидит парадокс, но никакого парадокса не будет, если Ахиллеса и наблюдателя поместить в пространство с одинаковой метрикой. Можно добавить: в этой апории наличие черепахи не является обязательным. Не за черепахой бежит Ахиллес, а сам по себе: сначала 10 метром, после 1 метр и т. д.:
\(10 + 1 + 0,1 +… = 11,111… = 100/9\) метра.
Это и есть радиус сферы Эйнштейна.
Для тех же, кто находится на границе сферы, начать движение, по той же логике, невозможно: чтобы пройти 10 метров, сначала надо пройти 1 метр, а для этого надо прежде одолеть 1 сантиметр и т. д.
На бытовом уровне можно сказать так: изменять мерку в процессе измерения является логической ошибкой.
Отметим, это важно для понимания Кантора, последний прилежно изучал Гегеля. Немец Кантор начал публиковаться приблизительно через тридцать лет после выхода в свет «Науки логики» немца Гегеля, и не быть знакомым с этим знаменитым в то время трудом он не мог, поскольку язык и логики их очень похожи: рассуждения об «одно» и о «много», о «ничто» и о «нечто», о переходе одного «нечто» в другое «нечто», о «свечении» одного «нечто» в другом «нечто» — это любимые темы Гегеля, подробнейшим образом рассмотренные им в его «Учении о бытии» [3]. Кантор толкует о том же самом, только другими словами: о точках (числах), о множествах, о свечении (эквивалентности) одного множества в другое. Но вот незадача: автором установлено, что «Наука логики» — это всего лишь учебник схоластики, иначе говоря, пособие по пустопорожним словопрениям, к науке отношения не имеющее [1].
В своем доказательстве эквивалентности прямой и плоскости Кантор прячется за числа, и не бросается в глаза, что сравниваются несравнимые величины. Это все равно, что сравнивать килограммы с метрами. И именно здесь, на уровне идентификации, Кантор выходит за рамки математики и переходит в область схоластики: оперирует с числами, которыми он обозначает точки, которые, в свою очередь, не имеют размера.
Для тех же, кто находится на границе сферы, начать движение, по той же логике, невозможно: чтобы пройти 10 метров, сначала надо пройти 1 метр, а для этого надо прежде одолеть 1 сантиметр и т. д.
На бытовом уровне можно сказать так: изменять мерку в процессе измерения является логической ошибкой.
Отметим, это важно для понимания Кантора, последний прилежно изучал Гегеля. Немец Кантор начал публиковаться приблизительно через тридцать лет после выхода в свет «Науки логики» немца Гегеля, и не быть знакомым с этим знаменитым в то время трудом он не мог, поскольку язык и логики их очень похожи: рассуждения об «одно» и о «много», о «ничто» и о «нечто», о переходе одного «нечто» в другое «нечто», о «свечении» одного «нечто» в другом «нечто» — это любимые темы Гегеля, подробнейшим образом рассмотренные им в его «Учении о бытии» [3]. Кантор толкует о том же самом, только другими словами: о точках (числах), о множествах, о свечении (эквивалентности) одного множества в другое. Но вот незадача: автором установлено, что «Наука логики» — это всего лишь учебник схоластики, иначе говоря, пособие по пустопорожним словопрениям, к науке отношения не имеющее [1].
В своем доказательстве эквивалентности прямой и плоскости Кантор прячется за числа, и не бросается в глаза, что сравниваются несравнимые величины. Это все равно, что сравнивать килограммы с метрами. И именно здесь, на уровне идентификации, Кантор выходит за рамки математики и переходит в область схоластики: оперирует с числами, которыми он обозначает точки, которые, в свою очередь, не имеют размера.
Собака зарыта именно здесь.
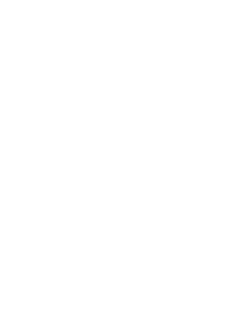
Леопольд Кронекер
Курьезно: серьезный математик Кронекер, который редактировал математический журнал и, конечно, разбирался в алгебре, получив для публикации работу Кантора, счел ее нелепостью, рассердился и пообещал, что разнесет ее в пух и прах. Несколько месяцев «мариновал» он работу. Но как Кронекер ни старался, как ни напрягался, найти в логике Кантора изъяна так и не смог, и был вынужден эту работу опубликовать. Не нашел Кронекер изъяна потому, что изъяна не было. Не там искал Кронекер. Искать надо было в посылках. Более того, в посылках, которые Кантор в явном виде не формулировал. А посылки эти таковы: Кантор неправомерно исходил из того, что пространство можно рассматривать как множество точек, при этом на факт отсутствия у точки размера внимание обращено не было. Кронекер исходил из тех же ложных посылок, что и Кантор, и поэтому изъяна не обнаружил.
Любопытно, но еще И. Кант предупреждал: «…точки (единственное простое, что есть в пространстве) суть лишь границы, а не нечто такое, что само служит как часть для образования пространства» [5, с.319].
Любопытно, но еще И. Кант предупреждал: «…точки (единственное простое, что есть в пространстве) суть лишь границы, а не нечто такое, что само служит как часть для образования пространства» [5, с.319].
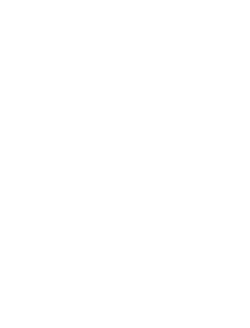
Гео́рг Ка́нтор
Кантор обозначил числами точки, которые размера не имеют, и из которых, следовательно, невозможно построить ни прямую, ни плоскость. И самим действием этого обозначения придал идеальным точкам реальность. А уж далее логически безупречно доказал эквивалентность соответственно множеств этих самых точек, которые размера не имеют. Современникам же доложил, что эквивалентны прямая и плоскость. И ему не сразу, но поверили.
По сути же Кантор аналитически показал (слово «доказал» здесь не вполне уместно) философскую (да и на бытовом уровне) бессмысленную и бесполезную, бессодержательную, хотя и очевидную «истину»: «ничто» содержится одинаковое количество в любом «нечто». Разумеется, если здесь вообще применимо слово «количество». Строго говоря, сама постановка вопроса «сколько ничто разместится в некотором нечто» неправомерна уже потому, что эти объекты различаются качественно.
В высшей степени удивительно, но это действительно так: логика здесь — один в один — та же, что и в шараде для первоклашек:
По сути же Кантор аналитически показал (слово «доказал» здесь не вполне уместно) философскую (да и на бытовом уровне) бессмысленную и бесполезную, бессодержательную, хотя и очевидную «истину»: «ничто» содержится одинаковое количество в любом «нечто». Разумеется, если здесь вообще применимо слово «количество». Строго говоря, сама постановка вопроса «сколько ничто разместится в некотором нечто» неправомерна уже потому, что эти объекты различаются качественно.
В высшей степени удивительно, но это действительно так: логика здесь — один в один — та же, что и в шараде для первоклашек:
\((0=0) \rightarrow(1\times0)=(2\times0)\rightarrow1\times0\div0=2\times0\div0\rightarrow(1=2),\)
только вместо символа нуль поставлен символ бесконечности. Именно так «доказана» эквивалентность пространств размерностей 1 и 2.
Следует согласиться с Н. Бурбаки [2], что действительные числа были вызваны к жизни потребностью измерения непрерывных величин. Отсюда понятно желание присвоить непрерывность и множеству действительных чисел, но сама непрерывность множества действительных чисел отсюда не следует.
Говорить об эквивалентности метров линейных и метров квадратных можно, во-первых, отвлекаясь от из размерности (это есть первый неправомерный, но не всегда заметный схоластический ход); во-вторых, неявным образом жонглируя понятием актуальной бесконечности, так как такой объект, как не имеющая размеров точка (либо число, эту точку изображающее) суть не что иное, как нуль, который связан с актуальной бесконечностью обратным отношением. Это есть второй неправомерный схоластический ход.
Подчеркнем еще раз: у точек нет самостоятельного бытия. Точки могут лишь служить границами имеющих бытие объектов. Но постепенно, особенно с работ Декарта, точкам начали присваивать бытие. И ситуация получается довольно занятная: человек сам точки придумал, и сам же после озаботился их пересчетом; пересчетом того, чего нет. Тут-то и открылось необъятное поле для фантазии. Д. Гильберт пришел от этого в экстаз и вдохновенно возгласил: «Никто не изгонит нас из рая, созданного для нас Кантором!» А вот гигант А. Пуанкаре, математик всеобъемлющей эрудиции — уровня К. Гаусса и. Л. Эйлера, видел вещи иначе. В начале двадцатого века он высказался: «Я полагаю, математика когда-нибудь излечится от этой болезни — от теории множеств».
Следует согласиться с Н. Бурбаки [2], что действительные числа были вызваны к жизни потребностью измерения непрерывных величин. Отсюда понятно желание присвоить непрерывность и множеству действительных чисел, но сама непрерывность множества действительных чисел отсюда не следует.
Говорить об эквивалентности метров линейных и метров квадратных можно, во-первых, отвлекаясь от из размерности (это есть первый неправомерный, но не всегда заметный схоластический ход); во-вторых, неявным образом жонглируя понятием актуальной бесконечности, так как такой объект, как не имеющая размеров точка (либо число, эту точку изображающее) суть не что иное, как нуль, который связан с актуальной бесконечностью обратным отношением. Это есть второй неправомерный схоластический ход.
Подчеркнем еще раз: у точек нет самостоятельного бытия. Точки могут лишь служить границами имеющих бытие объектов. Но постепенно, особенно с работ Декарта, точкам начали присваивать бытие. И ситуация получается довольно занятная: человек сам точки придумал, и сам же после озаботился их пересчетом; пересчетом того, чего нет. Тут-то и открылось необъятное поле для фантазии. Д. Гильберт пришел от этого в экстаз и вдохновенно возгласил: «Никто не изгонит нас из рая, созданного для нас Кантором!» А вот гигант А. Пуанкаре, математик всеобъемлющей эрудиции — уровня К. Гаусса и. Л. Эйлера, видел вещи иначе. В начале двадцатого века он высказался: «Я полагаю, математика когда-нибудь излечится от этой болезни — от теории множеств».
О понятии эквивалентности множеств
Ключевым понятием теории множеств является понятие эквивалентности (равномощности) множеств. Понятие это, хотя до конца и непонятно, нужно ли оно вообще еще где-нибудь, кроме самой теории множеств, тем не менее представляется прозрачным, непротиворечивым и надежным. Например, множество целых чисел эквивалентно множеству чисел четных:
\(n \sim 2n.\)
Прозрачность эта начинает исчезать, как только мы замечаем, что как на границах множеств, так и на самих множествах, взятых как законченные целые, эквивалентность вырождается в бессодержательные тождества:
\[ 0=2\times0, \]
\[ \infty=2\times\infty. \]
С помощью аффинного преобразования показывается, что множества точек любых двух отрезков эквивалентны между собой. Это тоже представляется непротиворечивым и прозрачным. Однако и здесь как на границах множеств, так и на самих множествах, взятых как законченные целые, то есть как актуальные бесконечности, эквивалентность превращается в те же бессодержательные тождества.
Отсюда предварительно напрашивается: понятие эквивалентности множеств имеет смысл на некотором ограниченном интервале (области), между тем как законность решения распространить (продолжить) его на множества безграничные и законченные (на актуальные бесконечности) не очевидна.
Поставим «невозможный» вопрос: какое множество имеет большую мощность — множество целых или множество действительных чисел? Для ограниченного интервала этих множеств ответ очевиден. Если же эти множества брать как завершенные данности, то ответ становится не так очевидным. Не видно критерия, по которому можно отличить одну безграничную бесконечную величину, взятую как завершенное целое, от другой.
Вместо ответа именно на этот вопрос всегда предлагается ответ на другой вопрос: чем отличается на заданной ограниченной области множество целых чисел от множества действительных чисел? В ответе на второй вопрос — да, можно воспользоваться критерием эквивалентности.
Уже при сравнении пространств различной размерности алгеброй не обойдешься: поскольку точка размера не имеет, речь, по сути, идет о том, сколько «ничто» разместится в некотором «нечто». При таких посылках не только прямая эквивалентна плоскости, но эквивалентны между собой все непрерывные пространства различных размерностей. Само понятие эквивалентности при этом размывается и теряет смысл.
Известно, что структура любого объекта может быть определена исходя из таковой на его границах. Каждое абстрактно взятое бесконечное множество имеет одни и те же границы — нуль и бесконечность. Соответственно и различать актуальные бесконечности нет оснований.
(Пользуясь отсутствием размера у точки, ставят вопрос о множестве кардинальных чисел. Законность постановки самого этого вопроса «узаконил» Цермело своей аксиомой о степени множеств [5].)
Теория множеств считается сегодня базисом всего здания математики. На мой взгляд, не сама теория множеств, а лишь ее язык. Схоластичность, соответственно и бесплодность таких разделов, как раздел о кардинальных числах или толки о континуум-гипотезе видны уже из того, что нигде, кроме самих этих теорий, применения найти не могут.
В матанализе под понятием «бесконечность» всегда понимается одно и тоже: нет двух различных бесконечностей, есть лишь разные скорости приближения к бесконечности. Соответственно, нет и двух разных нулей.
Отсюда предварительно напрашивается: понятие эквивалентности множеств имеет смысл на некотором ограниченном интервале (области), между тем как законность решения распространить (продолжить) его на множества безграничные и законченные (на актуальные бесконечности) не очевидна.
Поставим «невозможный» вопрос: какое множество имеет большую мощность — множество целых или множество действительных чисел? Для ограниченного интервала этих множеств ответ очевиден. Если же эти множества брать как завершенные данности, то ответ становится не так очевидным. Не видно критерия, по которому можно отличить одну безграничную бесконечную величину, взятую как завершенное целое, от другой.
Вместо ответа именно на этот вопрос всегда предлагается ответ на другой вопрос: чем отличается на заданной ограниченной области множество целых чисел от множества действительных чисел? В ответе на второй вопрос — да, можно воспользоваться критерием эквивалентности.
Уже при сравнении пространств различной размерности алгеброй не обойдешься: поскольку точка размера не имеет, речь, по сути, идет о том, сколько «ничто» разместится в некотором «нечто». При таких посылках не только прямая эквивалентна плоскости, но эквивалентны между собой все непрерывные пространства различных размерностей. Само понятие эквивалентности при этом размывается и теряет смысл.
Известно, что структура любого объекта может быть определена исходя из таковой на его границах. Каждое абстрактно взятое бесконечное множество имеет одни и те же границы — нуль и бесконечность. Соответственно и различать актуальные бесконечности нет оснований.
(Пользуясь отсутствием размера у точки, ставят вопрос о множестве кардинальных чисел. Законность постановки самого этого вопроса «узаконил» Цермело своей аксиомой о степени множеств [5].)
Теория множеств считается сегодня базисом всего здания математики. На мой взгляд, не сама теория множеств, а лишь ее язык. Схоластичность, соответственно и бесплодность таких разделов, как раздел о кардинальных числах или толки о континуум-гипотезе видны уже из того, что нигде, кроме самих этих теорий, применения найти не могут.
В матанализе под понятием «бесконечность» всегда понимается одно и тоже: нет двух различных бесконечностей, есть лишь разные скорости приближения к бесконечности. Соответственно, нет и двух разных нулей.
А если нет двух различных нулей, то как могут быть хотя бы две различные актуальные бесконечности?
О непрерывности действительных чисел
Создатели матанализа исходили из понятия величины, которая считалась априори непрерывной. На понятии непрерывности построен весь матанализ: понятие точки (числа) было вспомогательным.
С проникновением в умы математиков теоретико-множественных идей, которые, подчеркнем, формально-логически безупречны, возник соблазн перестроить матанализ, а после и прочие разделы математики, исходя уже не из величины, а из множества, в частности числового. Но без непрерывности — никуда, и логика привела: если матанализ верен, и если теоретико-множественные представления верны, то вывод следует сделать только один: множество действительных чисел — непрерывно.
Сам матанализ от такой перестройки ничего не приобрел, но ничего и не потерял. Сменился лишь язык: вместо «непрерывная величина» стали говорить «непрерывное множество».
Процесс этот происходил примерно так.
Во второй половине XIX века группа энергичных и настроенных мыслить исключительно аналитически математиков решили, что геометрические представления в математике не уместны, так как, по их мнению, нарушают строгость доказательств. Но поскольку без понятия непрерывности в матанализе и шагу ступить невозможно, а понятие это прежде всего геометрическое (конечно, в физике много и иных непрерывных величин), то свойство непрерывности просто взяли и перетащили из геометрии на множество действительных чисел, сформулировав для этого соответствующую аксиому.
Если раньше говорили, что прямая есть геометрическое место точек, то теперь стали говорить — прямая есть множество точек.
Одним из первых озаботился, кажется, Дедекинд [4]. Но каких-либо серьезных обоснований этому факту перетаскивания не представил. Многочисленные попытки придать сему факту научность так ни к чему и не привели. А попытки эти были, потому как чувствовали математики, что не все ладно с этой самой непрерывностью множества действительных чисел; чувствовали, что уже само словосочетание «непрерывное множество» представляется абсурдным, потому что множество потому и множество, что состоит из отдельных элементов.
Вот некоторые из этих попыток.
С проникновением в умы математиков теоретико-множественных идей, которые, подчеркнем, формально-логически безупречны, возник соблазн перестроить матанализ, а после и прочие разделы математики, исходя уже не из величины, а из множества, в частности числового. Но без непрерывности — никуда, и логика привела: если матанализ верен, и если теоретико-множественные представления верны, то вывод следует сделать только один: множество действительных чисел — непрерывно.
Сам матанализ от такой перестройки ничего не приобрел, но ничего и не потерял. Сменился лишь язык: вместо «непрерывная величина» стали говорить «непрерывное множество».
Процесс этот происходил примерно так.
Во второй половине XIX века группа энергичных и настроенных мыслить исключительно аналитически математиков решили, что геометрические представления в математике не уместны, так как, по их мнению, нарушают строгость доказательств. Но поскольку без понятия непрерывности в матанализе и шагу ступить невозможно, а понятие это прежде всего геометрическое (конечно, в физике много и иных непрерывных величин), то свойство непрерывности просто взяли и перетащили из геометрии на множество действительных чисел, сформулировав для этого соответствующую аксиому.
Если раньше говорили, что прямая есть геометрическое место точек, то теперь стали говорить — прямая есть множество точек.
Одним из первых озаботился, кажется, Дедекинд [4]. Но каких-либо серьезных обоснований этому факту перетаскивания не представил. Многочисленные попытки придать сему факту научность так ни к чему и не привели. А попытки эти были, потому как чувствовали математики, что не все ладно с этой самой непрерывностью множества действительных чисел; чувствовали, что уже само словосочетание «непрерывное множество» представляется абсурдным, потому что множество потому и множество, что состоит из отдельных элементов.
Вот некоторые из этих попыток.
- Непрерывность по Дедекинду
- Лемма о вложенных отрезках (принцип Коши-Кантора)
- Принцип супремума
- Лемма о конечном покрытии (принцип Гейне-Бореля)
- Лемма о предельной точке (принцип Больцано-Вейерштрасса)
Все эти подходы эквивалентны между собой (строго говоря, некоторые из них не вполне эквивалентны), что естественно, так как они пытаются описать одно и то же свойство — непрерывность. И все они сводятся к той или иной формулировке непрерывности геометрического объекта — линии. Это неизбежно, поскольку понятие непрерывного пространства является первичным. Когда же за первичное понятие взяли множество, тогда и встал неразрешимый вопрос, как из точек сконструировать пространство. Задача эта на логическом поле не имеет решения и завуалируется словом «континуум».
Рассмотрим кратко логику приведенных выше принципов непрерывности.
Рассмотрим кратко логику приведенных выше принципов непрерывности.
1. Дедекинд принял как данные три факта:
- на числовой оси нет места, где бы не было точки
- на числовой оси нет точки, которой не соответствовало бы действительное число
- между числами и точками существует биекция.
Поскольку числовая ось непрерывна, давайте считать непрерывным и множество действительных чисел. В этих трех пунктах начинается и заканчивается весь Дедекинд, и добавить тут нечего. Однако он зачем-то придумал понятие сечения — разбиение множества действительных чисел на два класса — и зафиксировал очевидный факт: каждому сечению соответствует одно число, и каждому числу соответствует одно сечение. Имея в виду лишь вещественные числа, он их линейную упорядоченность молчаливо предполагает. Далее он отметил еще один очевидный факт: сечение можно задать как на геометрической прямой, так и на множестве действительных чисел, при этом рассуждения о сечении на прямой и на множестве действительных чисел совпадают с точностью до терминологии. Собственно, в этом вся логика Дедекинда, и в этой логике состоит весь его принцип непрерывности. Между тем, ничто не мешает задать сечения Дедекинда на множестве целых чисел, но непрерывность множества целых чисел от того еще не последует.
Заметим: половина рассуждений Дедекинда вертится вокруг геометрического объекта — числовой оси.
Вывод: сечения Дедекинда — всего лишь попытка придать видимость научности недоказуемому факту непрерывности действительных чисел.
Заметим: половина рассуждений Дедекинда вертится вокруг геометрического объекта — числовой оси.
Вывод: сечения Дедекинда — всего лишь попытка придать видимость научности недоказуемому факту непрерывности действительных чисел.
2. В этой лемме как само собой разумеющееся используется понятие отрезка (по умолчанию непрерывного), его длины; точка отрезка отождествляется с числом, используется понятие предела.
Но: если непрерывный отрезок уже задан, то нет необходимости доказывать его непрерывность. А если непрерывность его только доказывается, то неправомерно пользоваться понятием предела, который сам предполагает непрерывность. Вообще же в лемме речь идет об отрезках и точках, а никак не о числах. Числа просто присваиваются точкам. В итоге лемма исходит из тех же посылок, что и Дедекинд. Крамольный вопрос — как же из не имеющих размера точек сконструировать имеющий размер отрезок — повисает в воздухе.
3. Если постулировать существование супремума у всякого непустого ограниченного сверху множества, то можно доказать принцип непрерывности по Дедекинду.
4. В любой системе интервалов, покрывающей отрезок, существует конечная подсистема, покрывающая этот отрезок.
Здесь снова речь идет о геометрических объектах – об отрезках.
5. Всякое бесконечное ограниченное числовое множество имеет по крайней мере одну предельную точку
Доказательство этой леммы непосредственно опирается на непрерывность числового множества.
Если для построения «все более высоких этажей» здания математики «непрерывность множества действительных чисел» является удобным понятием, позволяющим кратко и выпукло, а главное — адекватно формулировать математические тезисы, при этом адекватно формулировать лишь постольку, поскольку в этих формулировках точки используются только как границы, то при изучении фундамента математики — самой теории множеств, это самое перетаскивание непрерывности имеет негативные и далеко идущие последствия, поскольку точки здесь используются как строительный материал.
Действительно, если множество действительных чисел непрерывно, то можно объявить биекцию его и отрезка, который остался непрерывным. Обращаю внимание — не точек отрезка, а именно самого отрезка.
Или: если множество действительных чисел непрерывно, то непрерывно и множество всех точек отрезка. Стало быть, это множество всех точек отрезка и есть сам этот отрезок.
Если для построения «все более высоких этажей» здания математики «непрерывность множества действительных чисел» является удобным понятием, позволяющим кратко и выпукло, а главное — адекватно формулировать математические тезисы, при этом адекватно формулировать лишь постольку, поскольку в этих формулировках точки используются только как границы, то при изучении фундамента математики — самой теории множеств, это самое перетаскивание непрерывности имеет негативные и далеко идущие последствия, поскольку точки здесь используются как строительный материал.
Действительно, если множество действительных чисел непрерывно, то можно объявить биекцию его и отрезка, который остался непрерывным. Обращаю внимание — не точек отрезка, а именно самого отрезка.
Или: если множество действительных чисел непрерывно, то непрерывно и множество всех точек отрезка. Стало быть, это множество всех точек отрезка и есть сам этот отрезок.
Эта «логика» и лежит в основе апорий Кантора.
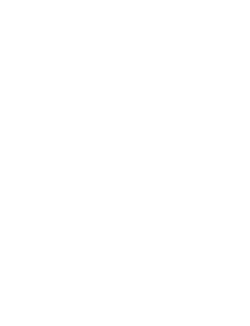
Готфрид Вильгельм Лейбниц
Но «логика» эта сразу же рушится, как только указывают на упрямый факт: нет у точек размера, а значит, и построить из точек ничего невозможно.
Мыслитель громадного масштаба, творец не только анализа бесконечно малых, но и глубокого философского трактата «Новые опыты о человеческом разуме» [7], Готфрид Вильгельм Лейбниц считал: «Ничего не происходит сразу, и одно из моих основных и наиболее достоверных положений то, что природа никогда не делает скачков».
Тогда почему ни Лейбниц, ни Бернулли, ни Эйлер не посчитали нужным даже озадачиться непрерывностью множества действительных чисел?
Да потому, что не было у них в этом никакой нужды, как, впрочем, нет никакой настоятельной нужды и сегодня.
Действительно, матанализ начинается с рассмотрения предела отношения приращений функции и аргумента. В этом отношении оба приращения суть меры, которые непрерывны независимо от того, прерывно или непрерывно само множество действительных чисел, которыми эти самые меры отмеряют.
Мыслитель громадного масштаба, творец не только анализа бесконечно малых, но и глубокого философского трактата «Новые опыты о человеческом разуме» [7], Готфрид Вильгельм Лейбниц считал: «Ничего не происходит сразу, и одно из моих основных и наиболее достоверных положений то, что природа никогда не делает скачков».
Тогда почему ни Лейбниц, ни Бернулли, ни Эйлер не посчитали нужным даже озадачиться непрерывностью множества действительных чисел?
Да потому, что не было у них в этом никакой нужды, как, впрочем, нет никакой настоятельной нужды и сегодня.
Действительно, матанализ начинается с рассмотрения предела отношения приращений функции и аргумента. В этом отношении оба приращения суть меры, которые непрерывны независимо от того, прерывно или непрерывно само множество действительных чисел, которыми эти самые меры отмеряют.
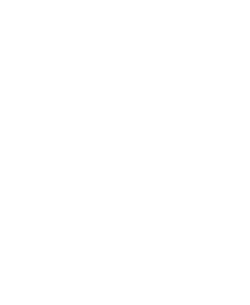
Даниил Бернулли
И ситуация с числами та же, что и с точками: как не получается из точек построить хотя бы отрезок, не впадая при этом в логическую бессмыслицу, так не получается и из чисел сотворить какую-либо непрерывность. Но поскольку как у множества точек, например, отрезка, так и у множества действительных чисел свойство — дискретность — одно, постольку и стало возможным установить между ними биекцию. А непрерывная величина — сам отрезок, тут не при чем: дискретное множество точек, промаркированное дискретным множеством чисел, всего лишь лежит на непрерывном отрезке.
Объект сугубо аналитический — число, пусть и множество чисел, отождествлять с объектом сугубо геометрическим — отрезком, недопустимо.
Присвоение множеству действительных чисел статуса непрерывности является волевым решением эстетического плана, позволяющим более выпукло и компактно формулировать тезисы математики.
Но всякая абстракция, даже самая разумная и полезная, как и любой иной полезный инструмент, имеет границы своего адекватного применения: топором можно срубить дерево и построить дом, но нельзя починить женские часики.
Абстракция «непрерывное пространство суть множество точек…» уместна и удобна для того, чтобы задавать в этом пространстве те или иные структуры, в которых точки служат лишь границами чего-то иного.
Объект сугубо аналитический — число, пусть и множество чисел, отождествлять с объектом сугубо геометрическим — отрезком, недопустимо.
Присвоение множеству действительных чисел статуса непрерывности является волевым решением эстетического плана, позволяющим более выпукло и компактно формулировать тезисы математики.
Но всякая абстракция, даже самая разумная и полезная, как и любой иной полезный инструмент, имеет границы своего адекватного применения: топором можно срубить дерево и построить дом, но нельзя починить женские часики.
Абстракция «непрерывное пространство суть множество точек…» уместна и удобна для того, чтобы задавать в этом пространстве те или иные структуры, в которых точки служат лишь границами чего-то иного.
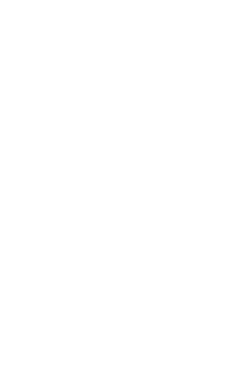
Леонард Эйлер
Но как только не имеющим размера точкам — объектам исключительно идеальным — присваивается реальность, то есть самостоятельное существование, и из них начинают строить непрерывные, имеющие размеры объекты пространства, то сразу же абстракция эта перестает работать, перестает адекватно отображать реальное положение дел; перестает именно потому, подчеркнем еще раз, что пространство — реально, точки же — всего лишь продукт абстракции, поэтому идеальны.
Имеет границы своего адекватного применения и такая категория, как «эквивалентность множеств»: распространение ее на актуальные бесконечности лежит в основе специфической области схоластики — учения о кардинальных числах.
Выход за допустимые рамки применения указанных абстракций и есть первопричина целого ряда парадоксальных, а по сути дела ошибочных результатов Кантора.
В этом и заключается ответ на вопрос — почему математика мирится с парадоксальными результатами и вскрыть их не может: не на поле математики лежат эти парадоксы, а на поле философии, более точно — в области идентификации.
Имеет границы своего адекватного применения и такая категория, как «эквивалентность множеств»: распространение ее на актуальные бесконечности лежит в основе специфической области схоластики — учения о кардинальных числах.
Выход за допустимые рамки применения указанных абстракций и есть первопричина целого ряда парадоксальных, а по сути дела ошибочных результатов Кантора.
В этом и заключается ответ на вопрос — почему математика мирится с парадоксальными результатами и вскрыть их не может: не на поле математики лежат эти парадоксы, а на поле философии, более точно — в области идентификации.
